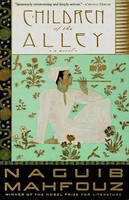Этот сад был студией художника Жака Мажореля, который переехал жить в Марокко в 1919 году, для того, чтоб продолжить карьеру и вылечить туберкулез. Территорию, на которой сейчас расположен сад, художник приобрел в 1924 году и обосновал здесь свою студию. Мажорель, как и Клод Моне, был увлечен коллекционированием растений, финансировал ботанические экспедиции, поддерживал деловые отношения с ботаниками всего мира, обменивался с ними редкими экземплярами. Из своих поездок он привозил североамериканские и мексиканские кактусы, азиатские лотосы, необыкновенные растения из Южной Африки.
После смерти Жака Мажореля в 1962 году, сад некоторое время был заброшен, а дом шел под снос. Но известный французский кутюрье Ив Сен-Лоран и его друг Пьер Берже в 1980 году выкупили территорию сада и взяли на себя заботу о его восстановлении и поддержании. Было потрачено немало сил и средств и на восстановление дома. Старая студия художника была переделана под небольшой музей исламского искусства. Сейчас здесь можно видеть акварели Мажореля, посвященные природе и ландшафтам южного Марокко. Также здесь находятся частные коллекции Ив Сен-Лорана.
Сегодня сад Мажорель открыт для посещения туристов. На входе посетителя встречают пышный фонтан и небольшая бамбуковая аллея с лавочками. После 40-градусной жары Марракеша вы оказываетесь в тихом тенистом саду, где поют птицы, а цвета и краски радуют глаза.
Идея Жака Мажореля заключалась в том, чтобы выкрасить дом в ярко синий цвет, который бы резко контрастировал с пышной растительностью сада. Впоследствии, этот цвет назвали "Синий Мажорель".
На главной аллее, ведущей к вилле, расположен длинный водоем, в конце которого находится маленькая беседка в марокканском стиле. Она утопает в зелени экзотических растений, представленных здесь во всем своем многообразии. Еще со времен Мажореля, здесь представлены широкие вазы из обожженной глины желтого, зеленого или "живого" синего цвета. Они резко контрастируют между собой - различные оттенки зеленого, лимонная желтизна и особенный синий цвет, который зимой приобретает тот же оттенок, что и небо. Некоторые смело называют этот садовый ландшафт одним из чудес света.
Больше фотографий:
gardener.ru/gap/garden_guide/page261.php?id=137...