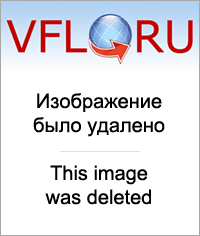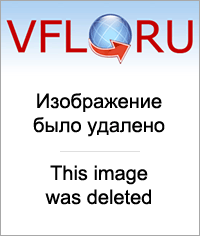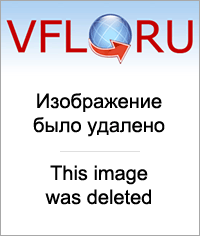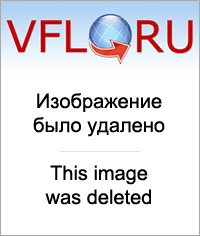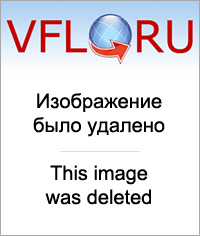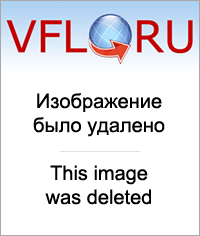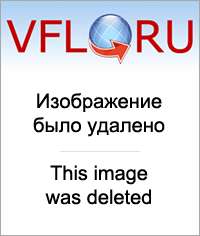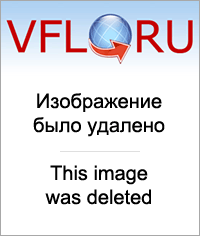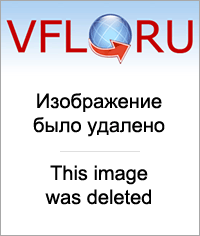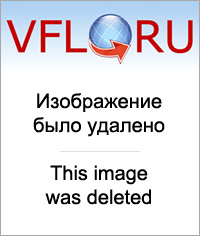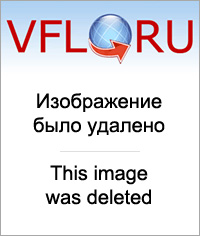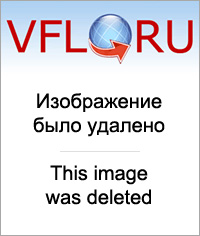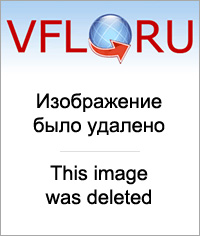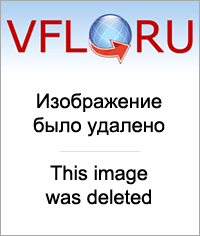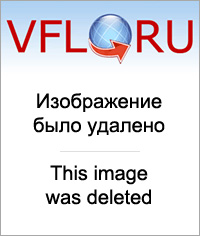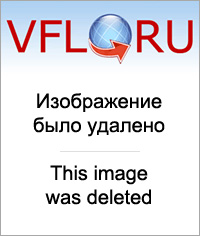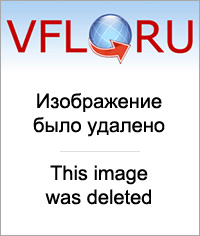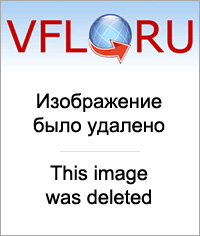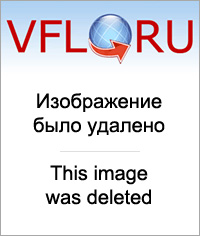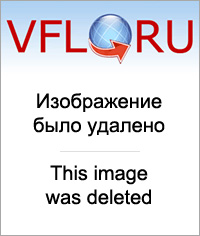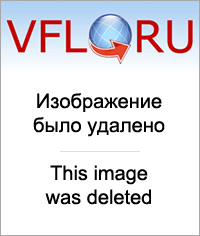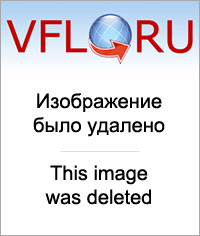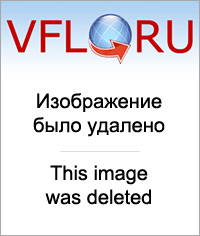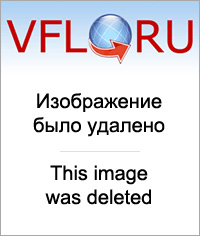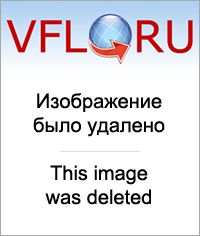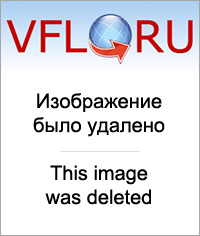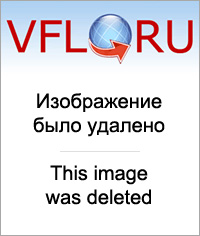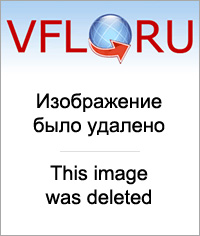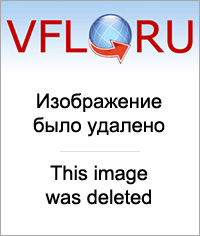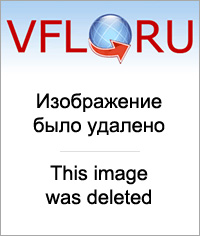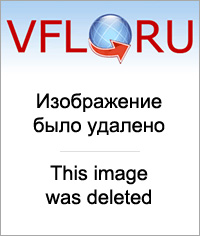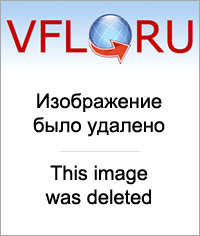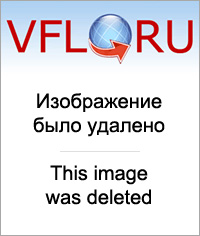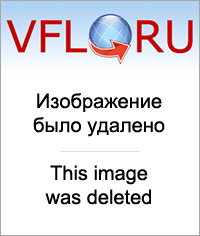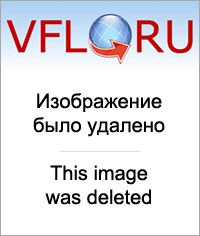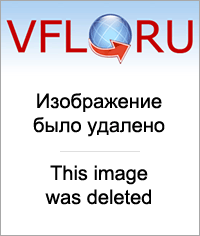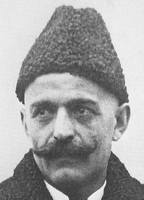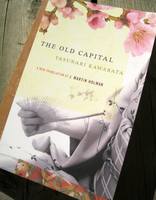Теодор Ворес - талантливый американский художник. К сожалению, о нем почти ничего не удалось найти на русском языке. Известно, что Ворес родился 1 августа 1859 года в американском городе Сан-Франциско. Основными источниками вдохновения художника были родной штат Калифорния, Гавайские острова, Япония, Испания и т.д.
Давайте любуемся его картинами.
читать дальше
Источник:
читать дальше